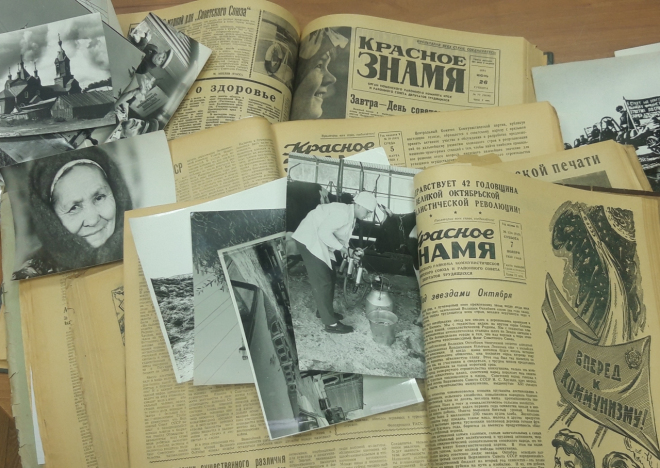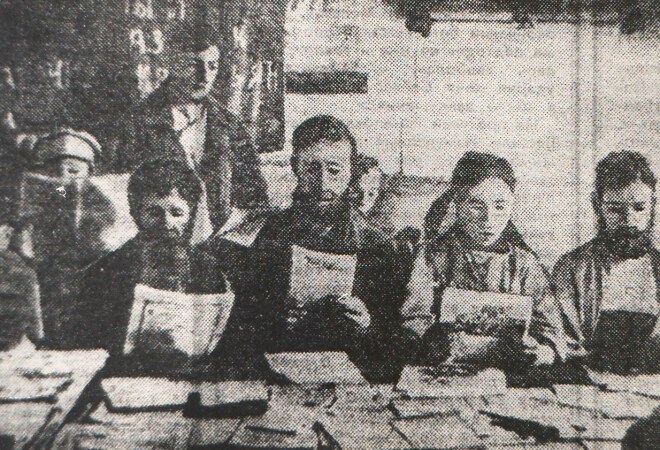К 75-летию Булата Сулейманова
- 27 мая 2013, 17:18
- Общество
...Все смешалось в недалёкой глубинке: ждали приезда писателя. Взволнованные библиотекарши перелопачивали весь имевшийся в наличии книжный фонд, по крупицам собирали из журналов и газет поэтические россыпи обещавшего приехать стихотворца, о котором до недавнего времени ничего почти не знали.
Искуснейшая из хозяек, вызвавшаяся накануне испечь каравай по случаю приезда гостя, сокрушалась так, будто в одночасье потеряла всех своих близких: непропечённым получился хлеб - как такой на стол? Проще оказалось с цветами: букет удался на славу, не стыдно преподнести и столичной знаменитости. Терпеливейшая из терпеливых висела на проводе, на другом конце которого бесстрастный голос областной дамы ответствовал: "Ждите, будет". Самые способные, будто первоклашки, спешили вызубрить два-три авторских стихотворения, дабы не ударить перед гостем в грязь лицом, преподнести ему вкупе с традиционными, обязательными сюрпризами ещё один, наверное, самый приятный.
Писатель приехал - к радости сельчан, не избалованных подобными визитами, видевших писателей, артистов, спортсменов только по телевизору. Читал стихи, рассказывал о своих книгах - как уже вышедших в свет, так и о тех, что готовятся к печати, об учителях - и о первых школьных, и о тех, что рангом повыше: Лермонтов, Рудаки... Уехал, заставив селян ещё долго размышлять о писательском ремесле, которое, как им казалось, не столь уж и тяжёлый труд - прямо синекура какая-то... Ан нет!
Вот такой мне запомнилась та давняя встреча с татарским поэтом Булатом Сулеймановым. Было это ровно двадцать пять лет назад, в 1988 году в Ярково, где я работал в местной "районке". Поэт был в райцентре проездом, торопясь на встречу с читательской аудиторией в Тобольске, ставшем тогда конечной точкой маршрута многих литераторов в рамках широко практиковавшихся в те годы так называемых писательских десантов - с целью пропаганды литературы. В "районке" была опубликована небольшая подборка стихотворений поэта и интервью с ним. Многое по ряду причин осталось "за кадром". Хотелось бы вновь вспомнить ту давнюю беседу.
- Булат, ваше имя широкому кругу читателей знакомо пока мало. Что вы расскажете о себе?
- Родился я 28 мая 1938 года в ауле Супра Вагайского района, Тюменской области. Все тяготы послевоенного времени ощутил на себе, с юных лет начав работать в колхозе - лет, кажется, с шести или семи. Во время сенокоса возил копны, гонял лошадей на молотилке, помогал ухаживать за колхозной скотиной на конном дворе, на ферме. Особенно нравилось ухаживать за лошадьми. В 1954 году окончил семилетку в родном ауле и многие годы продолжал работать в колхозе. В 1961 году, экстерном сдав экзамены за десять классов, поступил в Казанский госуниверситет им. Ульянова-Ленина. Работал также грузчиком, строителем, библиотекарем, референтом.
- Кто ваши родители?
- Простые сельские труженики. Отец, Валик Халиуллович, в 1941 году, едва началась война, ушёл на фронт, оставив маму, Атию Якаовну, с четырьмя детьми на руках, старшему из которых не было и семи лет.
- Это трудное время, наверное, не располагало к сочинительству? Когда вы стали писать стихи?
- Не знаю, можно ли было назвать стихами то, что я, сочинив, отправлял в газету. Я чувствовал, как стихи рождаются во мне, просятся на бумагу, но... Едва начинал их записывать, как всё куда-то исчезало - и ритм, и мелодия... Естественно, для меня, провинциального мальчишки, не были тогда знакомы даже основные правила стихосложения. Не было поблизости человека, который мог бы мне чем-то помочь, подсказать. Ответы же редакции были прямыми донельзя: бросьте, мол, молодой человек, осквернять своей писаниной священный храм поэзии. Или что-то в этом роде.
- Но однажды в газете было все же напечатано стихотворение, под которым стояла ваша подпись...
- Интересна его предыстория. Как-то я поехал со своим дедушкой в Салехард. Он был верующим и ежедневно совершал намаз - утром и вечером, на закате. Салехард - город белых ночей, и дедушку выбил из колеи этот сюрприз природы. Долгое время он чувствовал себя неуверенно, а затем - ну не чудо ли? - и вовсе бросил молиться. Мне это показалось забавным, и я написал по этому случаю большое стихотворение. В редакцию, куда я послал свой опус, его сильно укоротили, к тому же почти заново переписав. Но самое главное - напечатали! И вот тогда-то я, наконец, понял, как надо писать стихи. Мне преподали наглядный урок.
- До первой книжки стихов, однако, было далековато...
- Но к тому времени я заочно закончил (в 1974 году) Литературный институт им. Горького, который стал для меня прекрасной школой. Очень признателен своим наставникам Александру Жарову, ныне покойному, и Егору Исаеву.
- Кто из мастеров стиха оказал на вас особое влияние, у кого вы учились?
- Нравилась восточная поэзия - Гафиз, Рудаки, Омар Хайям, японская и китайская поэзия. Верлен, Рембо, Бёрнс... Классик татарской литературы Габдулла Тукай. О Пушкине и Лермонтове я не говорю - это само собой разумеется. Старался перенять у своих учителей самое лучшее, стремясь, однако, сохранить при этом свой почерк.
- Первая ваша книга увидела свет в 1970 году. Название её было символичным - "Беренче карлыгачлар" в переводе на русский означает "Первые ласточки"...
- Да, но многие стихи, вышедшие под одной обложкой, публиковались раньше
- в "Литературной России", журналах "Сибирские огни", "Юность". "Урал", "Уральские огни", альманахах. Второй мой сборник, "Таннар фонтаны" ("Фонтаны зорь"), появился лишь спустя десять лет. Затем - "Ак метеор" ("Белый метеор"). В 1975 году я стал лауреатом премии журнала "Юность".
- Какова тематика ваших стихов?
- Главные мои герои - оленеводы, нефтяники, газовики, строители. Одним словом, простые труженики. Нефтяникам Самотлора, например, посвящён целый цикл стихотворений.
- С кем из переводчиков вы сотрудничаете?
- Давняя дружба меня связывает с тюменскими поэтами Н.Шамсутдиновым и А.Гришиным, переводят мои стихи также Вадим Кузнецов, Лев Смирнов, Владимир Савельев, Сергей Mнацаканян. Многие стихи переведены не только на русский, но и на башкирский, киргизский, мордовский, азербайджанский и другие языки народов СССР.
- Некоторые из них, насколько мне известно, положены на музыку?
- Да, несколько песен на мои тексты создали тюменец Александр Проскуряков, татарские композиторы Сара Садыкова, Ганс Сайфуллин, который, кстати, сопровождает меня в этой поездке.
- Когда ожидается выход ваших очередных книг?
- В 1987 году выходит сборник "Дождь листьев", в 1988-м - подборки стихов в журналах "Юность" и "Огонёк".
- А прозу писать не пробовали?
- Ну почему же? В 1983 году в журнале "Казан уйлары" был опубликован мой рассказ "Абу баба", получивший довольно высокую оценку критиков и читателей. Написана повесть "Не женился ли, сынок?", которая готовится выйти отдельным изданием.
- О чем она?
- Повесть многопланова: присутствует здесь и антивоенная тема, и тема любви к родному краю...
- Традиционный вопрос: над чем сейчас работаете?
- Пишу роман о дезертирах. Время и место действия - послевоенные годы, Сибирь. Ну, а об остальном пока говорить рановато...
Вот таким получился тот давний разговор. Нарочно не стал ничего менять в том давнем интервью чтобы сохранить "живость" беседы, с ещё здравствующим поэтом, строящим планы на жизнь.
Планов у поэта было много - поистине грандиозных. К сожалению, им не суждено было сбыться: Булат Сулейманов, первый, по признанию многих, крупный сибиро-татарский поэт, скончался в самом расцвете сил. Случилось это 10 января 1991 года.
Хоронили его в Ембаево. На кладбище в день погребения пришло много народа. Были среди провожавших поэта в последний путь не только мусульмане. От имени тюменских писателей, собратьев по перу присутствовали в тот траурный день поэт Николай Денисов, тогдашний секретарь областной писательской организации Сергей Шумский и другие известные литераторы.
Владимир ПОРОТНИКОВ.
**Ежегодно в память о поэте и общественном деятеле в Тюмени проводятся "Сулеймановские чтения": впервые они прошли в день его 60-летия, 28 мая 1998 года. В них участвуют учёные, литераторы, преподаватели, студенты, читатели со всей России. Нынешняя научно-практическая конференция будет XVI по счёту.
На доме, где жил поэт, установлена мемориальная доска, его именем названа улица в Казарово.**